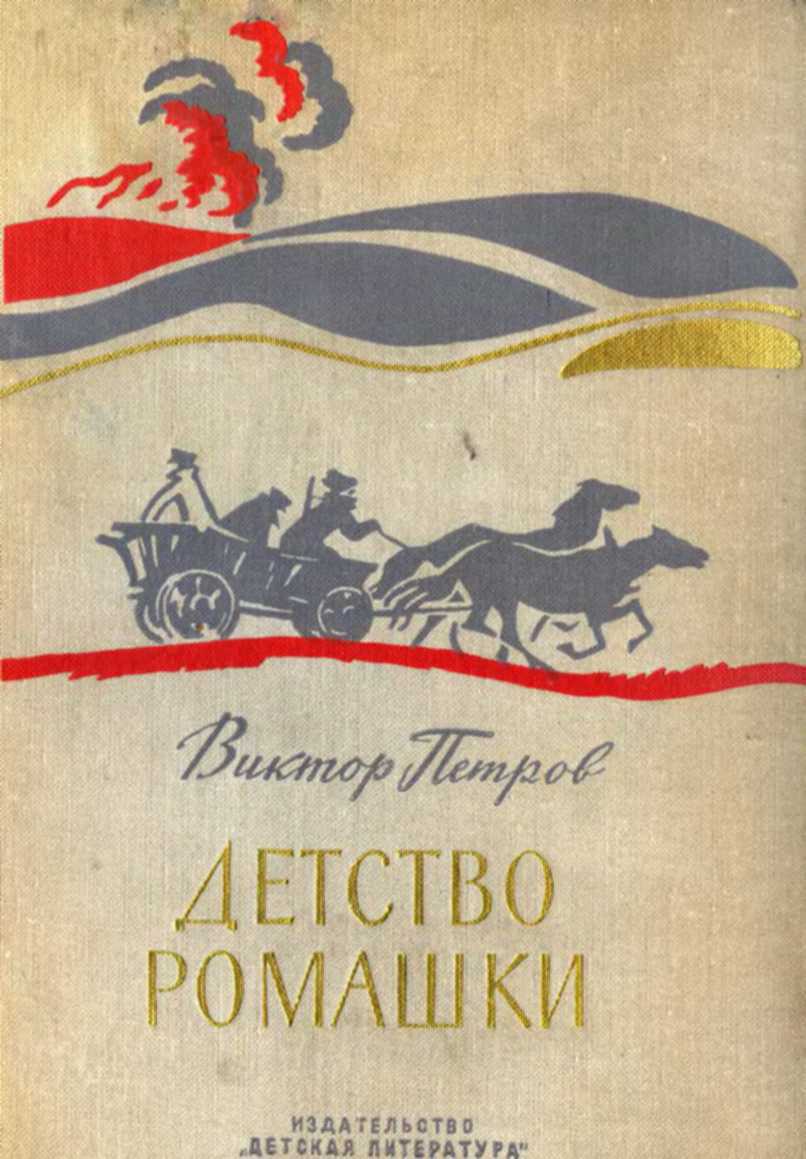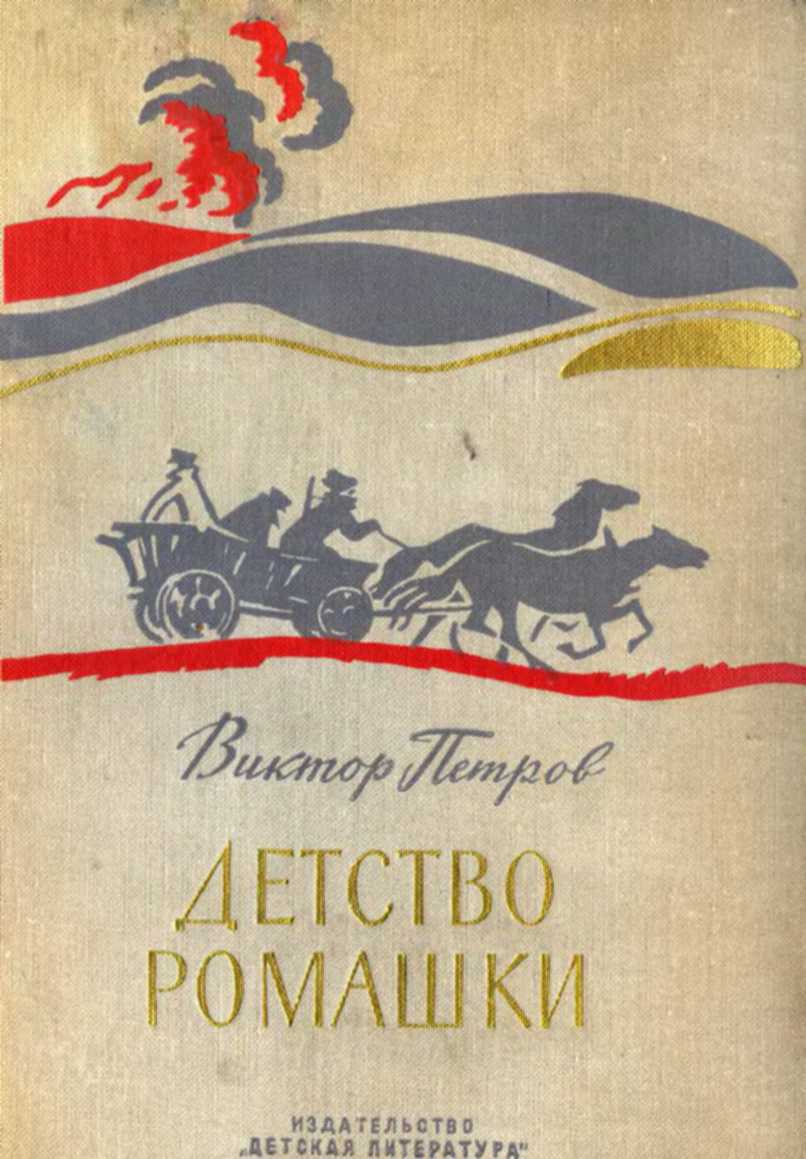после всех этих страхов и расслабляющих трансов будет вынесено решение, то золотой гавани вы не получите, – всё же в смелых её поисках лучше опуститься в безграничную глубину, чем плавать на вульгарных мелководьях; и вы, боги, ниспошлите мне чрезвычайную катастрофу, если я способен её одолеть.
Глава LXVI
Вылет соловьёв из уст Иуми
К полудню установился штиль.
– О, Нива! Славная Нива! Любезная Нива! Твоё сладкое дыхание, дорогая Нива!
Так из своего акульего рта просил маленький Ви-Ви Бога Попутных Бризов. И каноэ пятились назад, пока три носа не взорвались ржанием и не загарцевали на своём пути, как ретивые кони крестоносцев.
Затем подул прекрасный ветер, солнце радостно въехало в небеса, и вся Лагуна покрылась белыми, летящими гривами; Медиа призвал Иуми порыться во всём его собрании песен – воинственных, любовных и сентиментальных – и угостить нас чем-нибудь вдохновенным из-за слишком долгого пребывания компании в мрачном настроении.
– Спой лучшие твои песни, – крикнул он.
– Тогда я спою вам песню, мой господин, которая является самой сильной из всех песен. Я сочинял её долго, давно, когда Йилла ещё жила в Одо. Раньше вы слышали некоторые её фрагменты. Ах, Тайи! В этом моя суть – заставить вас вновь пережить свои счастливые часы. У некоторых радостей есть тысяча жизней, позволяющих им никогда не умирать; поскольку, когда они сникают, сладкие воспоминания оживляют их. Мой господин, я считаю эти стихи хорошими; они вышли из меня, как пузырящаяся живая вода из источника в серебряном руднике. И с вашего доброго разрешения, мой господин, у меня есть большая вера во вдохновение. Любой певец – провидец.
– Исполнение – это испытание, – сказал Баббаланья. – Иуми, ты исполнял её, когда эта песня была сочинена?
– На всём пути, Баббаланья.
– Снизу доверху?
– От пальца до пальца.
– Моя жизнь ради неё! Истинная поэзия здесь, мой господин! Само её исполнение, как я сказал, и является испытанием.
– Я вложил душу в эту песню, – кричал Иуми, – она всегда вызывает такое искрение, оживление и свечение, что ни один сын человеческий не сможет повторить её, исполняя самостоятельно. Сама эта песня станет доказательством того, что я сказал.
– Скромный молодой человек! – вздохнул Медиа.
– Не более чем искренно, – сказал Баббаланья. – Тот, кто откровенен, часто оказывается пустым, мой господин. Без злого умысла он сам говорит свободно, как любой другой, и так же готов соблюдать своё собственное достоинство, даже воображаемое, чтобы пожаловаться на его несомненную нехватку. Кроме того, такие люди, склонные к капризам, ограниченные, они не симпатичны смертным, невольно создают недоверие к себе, представая в фазе самомнения. Принимая во внимание, что тот человек, кто в присутствии своих лучших друзей выставляет напоказ зарешеченный и запертый бок, настолько чрезвычайно ценит свою собственную усладу, что не захочет осквернить святыню своей веры, оставив открытыми свои двери. Он заперт; и Эго – ключ. В резерве только тщеславие. Но всё человечество – индивидуалисты. Мир вращается вокруг меня, и мы – вокруг себя; поскольку мы – наши собственные слова, а все другие люди как чужеземцы из диковинных, далёких стран, где ходят одетыми в меха. Поэтому, независимо от того, кем бы они ни были, давайте покажем им наши миры, не стремясь скрыть от людей то, что знает Оро.
– Правда, мой господин, – сказал Иуми, – но всё это относится к людям в общей массе, но не всегда к моему несчастному ремеслу. Из всех смертных мы, поэты, больше всего подвержены противоположным капризам. Сейчас – небеса за небесами в небе, потом – слой под слоем в пыли. Так мы расплачиваемся за то, что мы есть. Но Марди лишь видит или думает, что видит символы нашего самодовольства, тогда как все наши муки невидимы. Поэты способны ощущать только тогда, когда они сами взлетают.
– Песню! Песню! – крикнул Медиа. – Не бери в голову метафизику, гений.
И Иуми, так настоятельно призванный, трижды запнулся, настраивая свой голос для пения.
Но здесь стоит сказать, что менестрель был одарён тремя чудесными голосами и иногда, как пересмешник, давал концерты со всеми сладкими тонами. Если бы вы, добрые друзья, умерли, то завещали бы ему свои голоса? Но прислушайтесь! В низком, умеренном тоне он начал:
Едва показался над холмами розовый свет,
Снова любезное утро застенчиво-кротко!
Так и взгляд Йиллы!
Задумчивы глаз её звёзды,
И от младого рассвета мягко сияют щёки её!
Но всё ещё кроток Восход
И бесформен
От Йиллы – но не от утра!
Скоро поднимется солнце,
К бегу день подгоняя,
За холмами лучи его
Режут пространство, как будто мечи, —
И продолжают с весельем они полыхать!
В воздухе музыка солнца!
Так вот и Йилла, сияя, теперь поднимается!
Лучи – продолжение длинных ресниц её, —
Музыка солнца в эфире звучит!
Её смех! Как он сочен!
Звуков яркий каскад!
Звон колокольный за звоном, звонящий вдали, —
Или звон вод, что с серебряным пеньем
Льются в бассейнах – из верхнего в нижний!
Падая быстро, блестя и струясь:
Грудь Йиллы – мягко дышащее озеро,
Где во всех порах и ямочках смех её мягкий живёт!
О, Йилла-красавица! Шаг твой свободен!
Быстро летит он над рябью морской,
Впадины все раскрывая,
Когда ты к игривому морю летишь!
Все звёзды смеются,
Как только наверх она поглядит;
Деревья лопочут
В укромных лесных уголках;
Ручьи все поют;
Эхом пещеры звенят;
И расцветают бутоны;
И ветви в объятьях стоят;
И весело птицы поют;
И листья из почек выходят,
Как только на почки посмотрит она!
Глубины души её солнца лучи испускают
И многих к ней быстро бежать заставляют.
И лозы растут, давая начало цветам,
И сотни влюблённых друг другу себя отдают!
– Продолжай, нежный Иуми, – сказал Баббаланья.
– Объясни, – сказал Мохи.
– Продолжай, – сказал Медиа.
– Мой господин, я прекратил посередине; конец ещё не дописан.
– Мистика! – вскричал Баббаланья. – Что, менестрель, ничего не должно окончательно выйти из всей этой мелодии? Никакого заключительного и неистощимого значения? Разве нет ничего, что попадает в глубину души, что само по себе и есть поставленная цель, что проникает в её собственную сущность и пропитывает свежестью, превращая вещи в элементы великого божественного охвата, посредством чего мы, смертные, становимся неотъемлемой частью богов, а наши души – их мыслями; и отчего мы оказываемся посвящёнными во все вещи – тайные, невыразимые и возвышенные? Тогда, Иуми, твоя песня ничего не стоит. Алла-Малолла говорит: «Это не истинное жизненное дыхание, которое не оставляет влаги». Я подозреваю тебя, менестрель, в том, что ты ещё не был пропитан главными тайнами, в том, что ты недостаточно размышляешь об Уединении, Монадах и Гипархах, Дианоях, Уникальных Ипостасях, Гностических силах Психической Сущности и Неземных и Плероматических Триадах и ничего не сказал относительно Абстрактных Ноуменов.
– Во имя Оро, прекратите! – выкрикнул Иуми. – Много звуков в ваших словах пугает меня.
Затем зашептал Мохи:
– Действительно ли он опять безумен?
– Мой мозг разбит, – сказал Медиа. – Аззагедди! Ты должен голодать и истекать кровью.
– Ах! – вздохнул Баббаланья, поворачиваясь. – Как мало они думают об «Элементарных расположениях в шахматном порядке» и «Беспокойных Сферах»!
Глава LXVII
Они посещают одинокого Доксодокса
Следующим утром мы подошли к раскидистому, свежесрубленному дереву, мерно качающемуся на волнах; его край был в белой пене. Очаровательный вид!
В то время как все наши восхищённые гребцы пристально рассматривали его, Медиа, взглянув